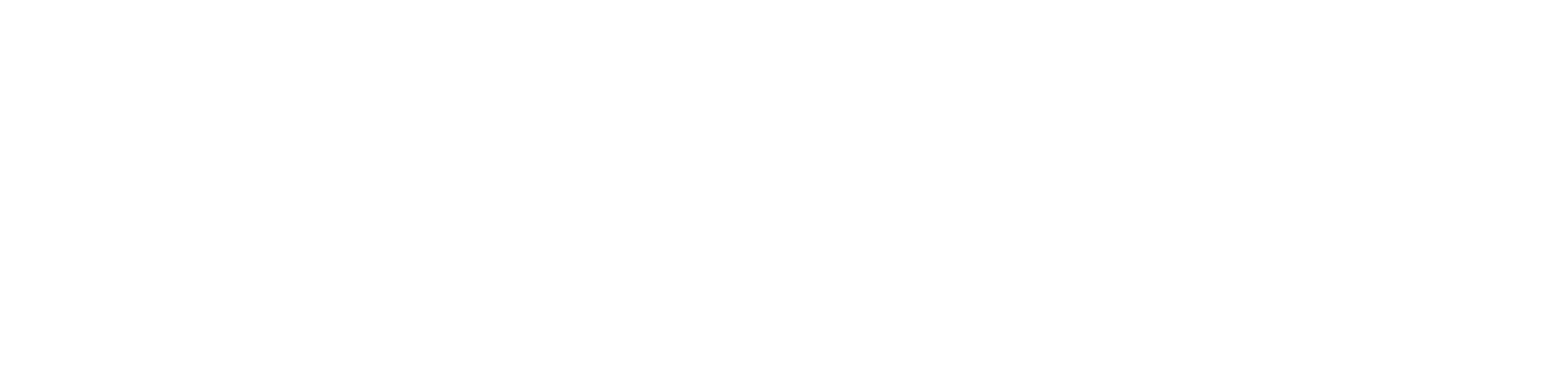Потом мама ушла из комсомола, потому что хотела быть ближе к нам, и устроилась работать в детский сад воспитателем. А когда я уже ходила в школу, перешла в дом ребенка «Березка». Для самых маленьких сирот. Там были выше ставки, какие-то надбавки и бонусы. Она работала сутки через двое.

Папа нигде не мог работать официально, он был, как это тогда называлось, «на творческих хлебах». Писал сценарии, переводил на украинский какието романы и повести, но достойных денег это не приносило. Если даже книга проходила все круги редакторского ада и цензуры, ее подписывали к печати и папа получал гонорар, все равно это случалось слишком редко и это были не те суммы, чтобы прокормить семью с двумя детьми.
Мы с Макаром с малых лет понимали, почему папа может работать только вот так, находясь дома. Сейчас бы это явление назвали «внутренним диссидентством». Когдато он был редактором в отделе прозы в журнале «Дніпро», и в одном из выпусков с некрологом то ли Брежнева, то ли кого-то еще из советских партийных деятелей была допущена непоправимая техническая ошибка: некоторые страницы сверстали вверх ногами. Да и сам текст оказался идеологически невыверенным. Номер изъяли из продажи, редакцию уволили без права на профессию. А поскольку папа был очень принципиальным и последовательным, ненавидел коммунистическую партию, а соответственно, не мог стать членом Союза писателей, то превратился в практически изгоя в профессии. Он встречался с друзьями, выпивал с ними вместе, но эти же люди не брали его на работу и печатать ничего не разрешали, лишь разводя руками: «Толик, ну ты же понимаешь».
Поскольку мама работала с утра до вечера, стараясь взять полторы ставки, а папа чтото писал в своей комнате, мы с братом были предоставлены сами себе. И это было прекрасно, потому что я могла не пойти в школу, а остаться дома, валяться на диване и читать книжки столько времени, сколько хочу.
А что, учителя не замечали вашего отсутствия?
Это была обычная районная школа, где училось тысячи три детей. Несметное количество. Мне было ужасно скучно, потому что я в свои шесть лет давно умела читать и писать – научилась у брата, а мои одноклассники весь год учились чертить палочки и осваивали букварь. И если в первые годы нас еще както контролировали, то потом совершенно расслабились. Нужно было появляться там время от времени, но в целом я могла сидеть дома или ходить в библиотеку – как захочу.
Отсутствие контроля и крайне низкий уровень требований объяснялись еще и тем, что это был украинский класс в русской школе. Меня туда записали из патриотических соображений: родители таким образом боролись с русификацией. Попадали туда дети не слишком способные, или же к нам переводили тех, кто плохо учился, – такая форма наказания. Наш класс считался «классом выравнивания».

Это известная киевская история: украинский язык считался языком плебса, непрестижным и ненужным. В моем классе было двадцать человек, в то время как русские – переполнены. Мои подружки со двора, учившиеся в русских классах, даже стеснялись меня – мы выходили из одного подъезда, но шли в школу разными дорогами.
В нашем классе никто не проявлял особой жажды знаний, а учителя предъявляли очень низкие требования, настолько низкие, что я легко справлялась с заданиями, хотя пропускала чуть не половину занятий. Отличников не любили, я стыдилась пятерок и поэтому по некоторым предметам вообще ничего не делала, чтобы иметь хотя бы пару троек в табеле. Ходила только на те уроки, которые мне были интересны.
В школе я себя чувствовала очень дискомфортно. Одноклассники со мной не разговаривали, думаю, я была и одета както бедно, да и вообще не сильно им интересна. У нас было мало точек соприкосновения: то, вокруг чего дружат дети, прошло както мимо меня. Дети чувствуют «своих». У меня были только ситуативные друзья: те, с кем я сидела за одной партой, кому помогала делать задания. Многие просили списать, особенно украинский. Но учительница сказала, что списывать – плохо. Если она замечала, что ктото списал у меня контрольную, то наказывала не только того, кто списал, но и меня. Поэтому я отказывала. За это меня называли жадиной, объявляли бойкоты. Так что класс жил своей жизнью, я – своей. Читала дома, обсуждала книги с друзьями брата. Много времени посвящала кружкам и студиям: после школы, едва забросив портфель домой, ехала на плавание или во Дворец пионеров на хор, позже – на занятия по французскому, на дзюдо. Мне было чем себя занять.
Родителям не говорили, что в школе у вас не складывается?
Ну как не складывается? Я ведь в нее хожу, получаю хорошие оценки. Ну общение не складывается, но ведь это моя проблема, а не их. Они были уверены, что у меня все в порядке, оценки ведь хорошие. Папе все это было неинтересно, а мама была слишком занята, чтобы грузить ее еще и своими пустяковыми проблемами. Подумаешь, со мной никто в классе полгода не разговаривает… Это сейчас у Василинки (дочь Лиды Василина. – Прим. авт.) в школе есть уроки психологии, на них дети решают коллективные задачи, как разруливать конфликты, как дружить, как справиться с трудностями. После уроков я у дочери все время выспрашиваю, с кем она общается, о чем, почему именно с этими детками. Пытаюсь прощупать, насколько ей психологически комфортно в своем классе. Но мне кажется, это уже другая крайность и я слишком сильно все контролирую. Да не только я: сейчас взрослые бросились решать многие проблемы за детей, в итоге те не в состоянии справиться с трудностями, когда взрослых нет рядом. Сейчас как бы зашкал в другую сторону. В сторону гиперконтроля и опеки, которые лишают самостоятельности.